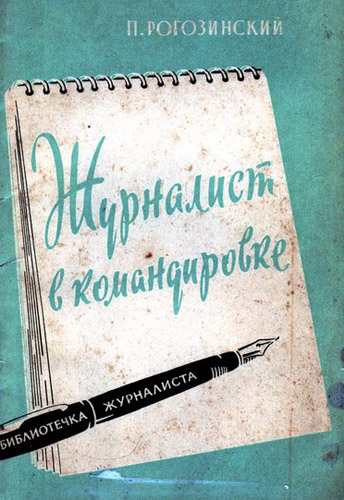
|
Библиотечка журналиста
ПАВЕЛ РОГОЗИНСКИЙ
«ЖУРНАЛИСТ В КОМАНДИРОВКЕ»
(Заметки корреспондента)
Государственное издательство политической литературы
Москва, 1961 год
Журналист всегда в движении. Он должен держать руку на пульсе жизни, быть в курсе всех событий, опережать их и даже направлять. В книге П. А.
Рогозинского (Ордынского) рассказывается, как работает журналист в командировке, как рождается статья, информация, фельетон, как печать помогает строительству
коммунистического общества.
Редактор А. В. Белановский
OCR С. И. Крапивин ДВА СЛОВА О КОРРЕСПОНДЕНТСКОЙ ПРОФЕССИИ
Экспрессы, арбы, самолеты, лошади, верблюды, автомобили, собачьи упряжки, дрезины, каюки, быки зебу, фуникулеры, глиссеры, буера, пароходы, подводные лодки, даже
позабытый впоследствии шаро-поезд изобретателя Ярмольчука!.. За годы работы специальным корреспондентом мне не доводилось ездить разве лишь на страусах эму.
Встретить рассвет на аэродроме, провожая в далекий рейс знаменитого пилота, провести день на заводе, а вечером присутствовать на встрече иностранного посла – такой
день не представляет для газетчика ничего особенного.
Просиживать дни и ночи над грудами писем, телеграмм и телефонограмм, неизменно обедая только «на следующий день», – это тоже будни газетчика.
Недели, а то и месяцы кропотливо собирать материал, потом писать, «сотней папирос клубя», сдать статью в набор, уже держать в руках остро пахнущие типографской краской
гранки первого оттиска, а потом бросить их в корзину, потому что пришли сообщения более важные и твоя статья стала уже ненужной, – это тоже будни газетчика.
Американцы острят, что репортер должен быть на месте пожара за десять минут до происшествия. В этом есть свой смысл. Газетчик должен, обязан держать руку на пульсе
жизни, быть в курсе всех событий, опережать их и даже направлять.
Делать газету ремесленно нельзя.
Среди журналистов можно встретить людей талантливых и бездарных, с высшим образованием и самоучек, ленивых и трудолюбивых – словом, людей со всеми человеческими
слабостями и достоинствами. Но нет среди них людей равнодушных.
Идти на работу в газету только ради заработка – это все равно что, не умея плавать, бросаться в море: волны либо поглотят, либо выбросят на берег. Из человека
равнодушного, можно сказать заранее, журналиста не получится никогда. Слова гладкие, аккуратно построенные в правильные фразы, как в учебнике иностранного языка, будут
звучать мертво, не задевая сознания людей. И никому они ничего, не скажут и ничему не научат.
Рядовые газетчики всегда гордятся, что люди большого сердца и высоких стремлений – Маркс, Энгельс, Ленин, Горький – были журналистами.
Хорошо напишешь только о том, что любишь или ненавидишь. Никогда хорошо не напишешь о том, чего не знаешь. Учиться газетчик должен всему и всегда, но в особенности
искусству владеть словом. Горький говорил, что для выражения каждого понятия существует только одно присущее ему слово. Заключенная в нем мысль должна быть видна, как
сквозь хорошо протертое стекло: предметы видишь, а стекла не замечаешь. Найти такое слово подчас трудно, мучительно трудно.
Как же делаются журналистами? Как вообще рождается газетный материал – статья, фельетон, простая заметка о происшествии?
Французское издательство Бадиньера предложило самым известным журналистам Парижа рассказать, как они стали газетчиками, или описать какой-либо примечательный случай из
их жизни и работы. Получилась довольно интересная книга. Озаглавили ее: «Один час моей карьеры». Удачнее названия придумать трудно. Буржуазный журналист рассматривает
свою деятельность только как личную карьеру.
Бальзак писал, что газету обратили в предмет торговли и, как при любом торгашестве, не стало ни стыда, ни совести; всякая газета – это лавочка, где торгуют словами
любой окраски по вкусу публики.
Всю горечь такого признания советские журналисты могут понять рассудком, но сердцем – никак. В стране, где печать свободна, слова Бальзака звучат дико.
Я не собирался быть газетчиком. Поиски работы закинули меня в Ульяновск. В этом когда-то тихом городе яблоневых садов я делал палочки для кисточек. В 1923 году
безработица еще не была ликвидирована.
Потом удалось поступить кладовщиком в Дом охраны материнства и младенчества. Там меня выбрали секретарем месткома. Председателем месткома была жена губвоенкома. К
нашему учреждению она никакого отношения не имела. Просто скучающая дамочка, желая прослыть общественницей, как-то умудрилась устроиться на эту должность благодаря
связям мужа. Раз в неделю – не чаще – она приезжала к нам на паре гнедых военкоматских рысаков. Глядя в окно, рассеянно слушала мой отчет, потом, оборвав на полуслове,
поднималась, снисходительно бросала: «Ну, хорошо, работайте, работайте, я еще загляну», – и уходила, обдав запахом тонких духов и пудры. В губернском отделе союза
Медсантруд, когда я туда обратился, достаточно категорически заявили, что предместкома со своими обязанностями справляется и чтобы я не совал нос не в свои
дела.
Среди воспитанников Дома вспыхнула эпидемия скарлатины. Заведующий, опасаясь огласки и неприятностей, не объявил карантина и держал больных детей вместе со здоровыми.
Я адресовался в губздрав – и тоже безрезультатно.
В день Парижской коммуны у нас на общем собрании служащих делал доклад сотрудник местной газеты. В заключение он призвал нас писать в газету. Я и написал...
Сперва напечатали заметку про эпидемию и заведующего; потом– про председателя месткома и губотдел союза; а на следующий день после этого меня уволили с работы.
Редакция сообщила в прокуратуру. Дело обещали расследовать.
Бродя без цели по городу, ненастным вечером я проходил мимо ярко освещенного пионерского клуба. Странные взъерошенные фигурки заглядывали со двора в сияющие окна.
Зябко кутаясь в намокшие лохмотья, какие-то ребята восторженно следили за играми детей в светлых, просторных комнатах.
Это были беспризорники. Около тридцати ребятишек, в большинстве сироты из окрестных сел и деревень, в поисках лучшей доли забредшие в город, нашли себе пристанище в
подвале под пионерским клубом. Какая дичь, какая вопиющая несуразность! В одном и том же созданном для детей Доме, но на разных этажах растут и воспитываются будущие
строители нового мира и... кандидаты в уголовники!
У меня нашлось немного бумаги. Писал до утра. Перед глазами стояли подвал и сияющий клуб. Я хотел, чтобы их видели все. чтобы все чувствовали себя ответственными за
этот позор.
Написанное снес в редакцию, сунул курьеру и ушел. На душе стало как-то легче.
Через несколько дней зашел сюда снова – узнать: нет ли вестей от прокурора? Едва я назвал свою фамилию, кто-то схватил меня за рукав и потащил в кабинет редактора,
мимо которого я проходил на цыпочках.
– Где вы, черт вас возьми, пропадаете? – загремел редактор. – Наделали переполоху, а самого с собаками не сыскать! Вам тут звонят, звонят...
Оказывается звонили из губкома партии, из губисполкома. губпрофсовета, губоно, губполитпросвета, из комитета комсомола.
Я держал газету в руках, читал, перечитывал статью про подвал беспризорных – и все еще не верил. Да неужто это все мои слова, моя боль и негодование? Неужели это мой
голос раздавался над городом?
– Идите скорее в губком! Там вас ждут, будут обсуждать статью. И возвращайтесь скорее – дадите отчет.
В губкоме я сидел, как в тумане. Решения губкома партии шли гораздо дальше моих ожиданий.
– Обязательно проследите, как они будут выполняться, – попросил секретарь губкома, прощаясь. – Чуть-что – звоните прямо ко мне! А ребят этих заберем сегодня
же.
...Новый огромный мир распахнулся предо мной. Я остался в газете навсегда.
Работать было трудно. Над иной коротенькой заметкой просиживал полдня. Как доходчивее рассказать ну хотя бы об открытии нового клуба, о митинге на фабрике? Что здесь
главное, что второстепенное?
– Есть мерка, с которой никогда не ошибешься, – говорил редактор. – Увидишь человека в первый раз – посмотри: если он не строит социализм, что же он делает? Тогда все
станет ясным, все станет на свое место.
...Шли годы. В какой бы редакции я ни работал, товарищи не уставали напоминать мне эту азбуку газетчика.
– Тебе доверяют острейшее оружие нашей партии. Не урони, не запачкай его, смотри, как ты его направляешь: можно бить, как мать, – любя; можно бить, как мачеха. Иногда
нужно только поправить, но врага – не жалеть!
– Газета делается только чистыми руками. Чувствуй себя, как на вышке, на которую все смотрят. Слово, шепотом сказанное в редакции, громом отдается по всей
стране.
– Не уставай учиться везде, всегда, всему. Но прежде всего учись у масс. Один человек может ошибиться. Массы – никогда.
Эти правила помогали ориентироваться всегда – и в ауле кочевников Туркмении, и на заседаниях коллегий министерств, и в шахтах Донбасса, и на собрании мурманских
портовиков.
Хорошо сказал Никита Сергеевич Хрущев на приеме советских журналистов в Кремле 14 ноября 1959 года: «...Вы, журналисты, не только верные помощники, а буквально
подручные нашей партии – активные бойцы за ее великое дело». Товарищ Хрущев говорил, что журналисты занимают почетное место в том великом деле, которое под
руководством партии совершает наш народ – строитель коммунизма.
В часы редакционного досуга, на дружеских вечерах в московском Доме журналиста газетчики, как бойцы у лагерного костра, не прочь иной раз порассказать, где и как им
доводилось применять доверенное партией острейшее оружие. Чужие воспоминания невольно развязывали и собственный язык.
Кто-то однажды заметил: «А почему бы вам не записать все, о чем рассказываете?»
Так родились эти заметки.
Это, разумеется, не сборник готовых рецептов написания путевых заметок и очерков. Да и мало помогли бы кому-либо такие рецепты, ибо недостаточно иметь полотно, кисть и
краски, чтобы стать художником и писать картины. Это, как я уже сказал, заметки о корреспондентской практике: о том, с чем сталкивается корреспондент в разъездах, как
он собирает, пишет и передает информацию, статьи, очерки.
|